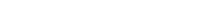–У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–µ–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В» –Ш–≥–Њ—А—М –Ґ–Њ–љ–Ї–Њ–≤–Є–і–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О «–Я–Њ—А—В–Э—М—О—Б» –Њ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П—Е –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–µ –Є —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є, —Ж–µ–љ–∞—Е –љ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–∞–ґ–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞, —А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–∞–ї –Љ–Є—Д –Њ–± —Г—Б–њ–µ—Е–∞—Е –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ—В–∞—Ж–Є–є –Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Њ—В –Љ–Є—А–Њ–≤—Л—Е –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤.
–Ш–≥–Њ—А—М –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–µ?
- –°—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П –Њ—В—А–∞—Б–ї—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О —А–µ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. –≠—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б—В–∞–ї –Њ—Б–Њ–±–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–µ–љ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–≤–∞-—В—А–Є –≥–Њ–і–∞, –љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Њ–љ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ 2008 –≥–Њ–і–∞. –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б –њ—А–Є–≤–µ–ї –Ї —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є, –Є –Њ–±—К–µ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є–ї—Б—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –С—Л—Б—В—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–µ —Г–≥–ї–µ–≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і-–њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ —В–∞–љ–Ї–µ—А–љ—Л–Љ —Б–µ–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –±–∞–ї–Ї–µ—А–љ—Л–є –Є –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–љ—Л–є. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ—Е 2010-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤—Б–µ —Н—В–Є —Б–µ–≥–Љ–µ–љ—В—Л —А—Л–љ–Ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї–Њ–≤ – –њ–Є–Ї–∞ 2015 –≥–Њ–і–∞ –≤ —В–∞–љ–Ї–µ—А–љ–Њ–Љ –±–Є–Ј–љ–µ—Б–µ –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ 2017 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б—Г—Е–Њ–≥—А—Г–Ј–љ–Њ–Љ –±–Є–Ј–љ–µ—Б–µ. –Ґ—А–Є –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є —Б–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–Љ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–Њ–Љ, –љ–Њ, —Г–≤—Л, —Н—В–Њ—В –њ–Њ–і—К–µ–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П.
–•–Њ—В—П –Њ–±—К–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї –љ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —А–∞—Б—В–µ—В —Б–њ—А–Њ—Б –љ–∞ —В–Њ–љ–љ–∞–ґ. –Ф–Њ 2022 –≥–Њ–і–∞ —З–Є—Б–ї–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—Г–і–Њ–≤ –≤ –Љ–Є—А–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Ъ–∞—В–∞—А–∞ –љ–∞ 70 –љ–Њ–≤—Л—Е –≥–∞–Ј–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ 2022 –≥–Њ–і—Г –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є —Г–≥–ї–µ–≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М, –Є –њ—А–µ–ґ–љ–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ. –≠—В–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–Њ —Б–њ—А–Њ—Б –љ–∞ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є—Б—П –≤ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є —Д–ї–Њ—В –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —В–Њ–љ–љ–∞–ґ–µ. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А—Л–љ–Њ–Ї –≤—Л–ґ–Є–і–∞–ї, –љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –Њ–±—К–µ–Љ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ —Б—Г–і–∞ —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—В–Є –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –і–Њ—Б—В–Є–≥ —А–µ–Ї–Њ—А–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П: —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ 2024 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Г–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 250 –Ї—А—Г–њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–∞–ґ–љ—Л—Е —В–∞–љ–Ї–µ—А–Њ–≤, –∞ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –≥–Њ–і–∞ —Н—В–Њ —З–Є—Б–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М—Б—П –і–Њ 500-600.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –µ—Б–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б—Г–і–љ–Њ –љ–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–є –≤–µ—А—Д–Є, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є –љ–µ —А–∞–љ—М—И–µ 2028-2030 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Ш —Н—В–Є –њ—П—В—М –ї–µ—В —Б—Г–і–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –±—Г–і–µ—В –љ–µ—Б—В–Є –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ—Л–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞ –Є —Б–∞–Љ–∞ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ–µ–≤. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ—Е 2010-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ —Ж–µ–љ—Л –љ–∞ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–µ —В–Є–њ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є, —Б 2020 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—И–ї–Є –≤–≤–µ—А—Е –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Є–љ—Д–ї—П—Ж–Є–Є –і–Њ–ї–ї–∞—А–∞. –Ч–∞—В–µ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є —А–∞—Б—В—Г—Й–Є–є —Б–њ—А–Њ—Б. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—Б–µ —В–Є–њ—Л —Б—Г–і–Њ–≤ —Б—В–Њ—П—В –љ–∞ 30-50% –і–Њ—А–Њ–ґ–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—П—В—М –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–є —В–∞–љ–Ї–µ—А —В–Є–њ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ «–Р—Д—А–∞–Љ–∞–Ї—Б» –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞—Ж–Є–Є, –љ–Њ –±–µ–Ј –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–є –≤—А–Њ–і–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, —Б—В–Њ–Є–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 –Љ–ї–љ. –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П – —Г–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 70 –Љ–ї–љ. –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤–љ–µ—Б—В–Є –≤–µ—А—Д–Є –њ—А–µ–і–Њ–њ–ї–∞—В—Г –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 35 –Љ–ї–љ –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤, –Є –≤ –Є—В–Њ–≥–µ – –њ—А–Є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 5% –≥–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ – –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ 85 –Љ–ї–љ. –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤.
–Ґ–∞–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞—З–Њ–Ї —Ж–µ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї, –њ—П—В—М –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і —Б—А–µ–і–љ–Є–є –≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї —В–∞–љ–Ї–µ—А–∞ —В–Є–њ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ «–Р—Д—А–∞–Љ–∞–Ї—Б» —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї 24 —В—Л—Б. –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤ –≤ —В–∞–є–Љ-—З–∞—А—В–µ—А–љ–Њ–Љ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–µ, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–љ —Г–ґ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В 30 —В—Л—Б. –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤.
–Т—Б—П —Н—В–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –ї–Є–±–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –і–ї—П –љ–µ—Д—В—П–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ—В –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –≤–њ–µ—А–µ–і, –ї–Є–±–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—Ж–Є–є —Б—Г–і–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –≤ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б–љ–Є–Ј–Є—В—Б—П –Є–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Л–љ–Њ–Ї –љ–µ –≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П –Ї —Г—А–Њ–≤–љ—П–Љ –њ—П—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є – –љ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ —П –љ–µ –≤–Є–ґ—Г.
–Я–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –≤ —Н—В–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ?
- –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ —Н—В–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ–Љ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ. –£ –љ–∞—Б –µ—Б—В—М —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В: –≤ 2000-—Е –≥–Њ–і–∞—Е «–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≤–µ—А—Д–Є» –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –і–ї—П «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В–∞» —Б–µ—А–Є—О –Є–Ј –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —В–∞–љ–Ї–µ—А–Њ–≤. –°–µ–є—З–∞—Б –Љ—Л —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–µ–Љ —Б –°–°–Ъ «–Ч–≤–µ–Ј–і–∞», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ 2022-2023 –≥–Њ–і–∞—Е —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞–Љ –і–≤–∞ —В–∞–љ–Ї–µ—А–∞ —В–Є–њ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ «–Р—Д—А–∞–Љ–∞–Ї—Б» –љ–∞ –°–Я–У-—В–Њ–њ–ї–Є–≤–µ –Є —Б—В—А–Њ–Є—В —Б–µ—А–Є—О –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≥–∞–Ј–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–≤.
–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Х—Б–ї–Є —Н—В—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П —А–µ—И–Є—В—М, —И–∞–љ—Б—Л –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –Ї—А—Г–њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–∞–ґ–љ—Л–є —В–∞–љ–Ї–µ—А –±—Г–і—Г—В —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї –љ—Г–ї—О. –Т –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–µ –Љ–∞–ї–Њ–Њ–±–Њ—А–Њ—В–љ—Л—Е –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В «—Б–µ—А–і—Ж–µ» –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –µ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є –і–ї—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П.
–°—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–і–љ–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ. –Х—Й–µ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –Є –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≤–µ—А—Д–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –≤ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ —А–∞–Ј–∞ –і–µ—И–µ–≤–ї–µ, —З–µ–Љ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ. –°–µ–є—З–∞—Б —Ж–µ–љ—Л –љ–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—Л–≤ —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–ї—Б—П, –љ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—Г–і–Њ–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –і–Њ—А–Њ–ґ–µ, —З–µ–Љ –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ.
- –Ъ–∞–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л —Б–µ–є—З–∞—Б —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї—А—Г–њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–∞–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤?
- –Ъ–Є—В–∞–є –Є –Ѓ–ґ–љ–∞—П –Ъ–Њ—А–µ—П. –Т –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є —Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–љ–µ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є—Б—М –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є: —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –ї–Є–і–µ—А—Б—В–≤–Њ —Г —Б—В—А–∞–љ—Л –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –Ј–∞—В–µ–Љ –Ъ–Њ—А–µ—П –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –ї–Є–і–µ—А—Б—В–≤–Њ —Г –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, —В–µ–њ–µ—А—М –Ъ–Є—В–∞–є –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –ї–Є–і–µ—А—Б—В–≤–Њ —Г –Ъ–Њ—А–µ–Є.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —З–µ—В—Л—А–µ –Є–Ј –њ—П—В–Є –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –≤–µ—А—Д–µ–є –≤ –Љ–Є—А–µ – –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–µ: Samsung, Hyundai, Hanwha Ocean –Є Hyundai Samho. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –±—А–∞—В—М –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –Ъ–Є—В–∞–є —Г–ґ–µ –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—О compensated gross tonnage (CGT), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–љ–љ–∞–ґ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –љ–Њ –Є —В—А—Г–і–Њ–Ј–∞—В—А–∞—В—Л. –Э–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Љ–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –Є –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є –Ъ–Є—В–∞–є –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –≥–Њ–і—Л –±—Г–і–µ—В –ї–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є – –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–∞—Е –±–∞–ї–Ї–µ—А–Њ–≤, —В–∞–љ–Ї–µ—А–Њ–≤, –Њ—Д—Д—И–Њ—А–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤.
–Ѓ–ґ–љ–∞—П –Ъ–Њ—А–µ—П –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–Љ –ї–Є–і–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –≥–∞–Ј–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Њ–љ–Є —Б—В—А–Њ—П—В –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–Њ–≤–Њ–Ј—Л (–љ–∞ 17-22 —В—Л—Б. TEU) –Є —Б–∞–Љ—Л–µ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–∞–ґ–љ—Л–µ —В–∞–љ–Ї–µ—А—Л (VLCC). –Я—А–Њ—З–Є–є —В–∞–љ–Ї–µ—А–љ—Л–є —В–Њ–љ–љ–∞–ґ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П «–Р—Д—А–∞–Љ–∞–Ї—Б—Л», –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –±–∞–ї–Ї–µ—А–љ—Л–є —В–Њ–љ–љ–∞–ґ –Ъ–Њ—А–µ—П —Б—В—А–Њ–Є—В—М –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞.
- –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б—Г–±—Б–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ?
- –Я–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –љ–µ—В. –≠—В–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і–љ—Л–є —Б–µ–Ї—В–Њ—А —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Ъ–Є—В–∞—П. –Ю–љ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–љ—Л–є. –Х—Б–ї–Є —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –Ъ–Є—В–∞–є —Б—В—А–Њ–Є–ї –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 38 –Љ–ї–љ —В–Њ–љ–љ –і–µ–і–≤–µ–є—В–∞ –≤ –≥–Њ–і, —В–Њ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Г–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 52 –Љ–ї–љ —В–Њ–љ–љ. –†–Њ—Б—В –љ–∞ —В—А–µ—В—М. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤ —Г –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—А—Д–µ–є –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 2030-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ – –њ–Њ—З—В–Є 180 –Љ–ї–љ —В–Њ–љ–љ. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–±—Б–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–±—К–µ–Љ? –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В.
–†–Њ—Б—В —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –љ–µ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –і–Њ—В–∞—Ж–Є–є, –∞ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞. –Ъ–Э–† –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —Б—Г–і–Њ–≤—Л–µ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ–∞ –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Б—Г–і–Њ–≤—Г—О —Б—В–∞–ї—М. –£ –Ъ–Є—В–∞—П –µ—Б—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–Є–Ї–Є –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Ж–µ–љ–µ —Б—Г–і–љ–∞ —Н—В–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В –ї–Є—И—М –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–Њ–ї—О. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 70-80% —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–і–љ–∞ –Ъ–Є—В–∞–є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є –і–µ–ї–∞–µ—В —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є.
–Т–∞–ґ–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ. –Ъ–Э–† –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б—Г–і–∞ –і–ї—П –°–°–°–† –µ—Й–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –і—А—Г–ґ–±—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ 1950-–µ –≥–Њ–і—Л. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 60% –≤–µ—А—Д–µ–є –Ъ–Є—В–∞—П –±—Л–ї–Є —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –Т 1990-–µ –≥–Њ–і—Л —Н—В–Є –≤–µ—А—Д–Є –±—Л–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ–±—Л —Б—В—А–Њ–Є—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л—Е –ї—М–≥–Њ—В, –љ–Њ –і–ї—П –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–≤ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ, –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –љ–∞–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ.
–Ю—В–Љ–µ—З—Г, —З—В–Њ –њ–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–і–∞ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –Ъ–Њ—А–µ–Є, –љ–Њ —Г –Ї–Њ—А–µ–є—Ж–µ–≤ —А–∞—Б—В—Г—В –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ —Б—Г–і–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л –±—Г–і—Г—В –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—И–µ–≤—Л–є –Ъ–Є—В–∞–є.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ –≤—Б–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –≤–µ—А—Д–Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ—А—Д–Є –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А—Г—О—В, —З—В–Њ —Б—Г–і–љ–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–і–∞–љ–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ—Л –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ—П—В—М –ї–µ—В –≤–њ–µ—А–µ–і. –І–∞—Б—В–љ—Л–µ –≤–µ—А—Д–Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О—В –±–Њ–ї–µ–µ –љ–Є–Ј–Ї–Є–µ —Ж–µ–љ—Л, –љ–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —А–Є—Б–Ї, —З—В–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞ –±—Г–і–µ—В —Б–Њ—А–≤–∞–љ–Њ – –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є –љ–µ—Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П. –≠—В–Є —З–∞—Б—В–љ—Л–µ –≤–µ—А—Д–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ–Є.
- –Ъ–∞–Ї–Є–µ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Г —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П?
- –Э–∞—З–љ—Г —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ – –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Х—Б—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б —Б—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ – –љ–∞–і–µ–µ–Љ—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Ь–Є–љ–њ—А–Њ–Љ—В–Њ—А–≥–∞ —Н—В–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –±—Г–і—Г—В –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л. –Э–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ, —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ—Б—В—М. –Х—Б—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–њ—А–Њ–Ї–∞—В–Њ–Љ. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–Њ–Љ–µ–љ–Ї–ї–∞—В—Г—А–∞: –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ –Ї–∞—В–∞—О—В –ї–Є—Б—В—Л —Б—В–∞–ї–Є –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ 12 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –љ–∞ 24 –Љ–µ—В—А–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–≤–∞—А–Ї–Є –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –і–µ—И–µ–≤–ї–µ. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Б–µ–±–µ—Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М: —Б—Г–і–Њ–≤–∞—П —Б—В–∞–ї—М –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –∞ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ –µ–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї, –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –ґ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –ї–Є—Б—В—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –Ї–∞—В–∞—О—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Њ—Б–µ—А–Є–є–љ–Њ, –њ–Њ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–њ—А–Њ—Б –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї. –Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є–Ї–∞: –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є (—Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є –ї–Є—Б—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –£—А–∞–ї–µ), –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ї –≤–µ—А—Д—П–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ї—А–∞–є–љ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –∞ –µ—Б–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–і—Л –љ–∞—З–љ—Г—В –Ї–∞—В–∞—В—М –ї–Є—Б—В –і–ї–Є–љ–Њ–є 24 –Љ–µ—В—А–∞, –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П –њ—А–Њ–≤–µ–Ј—В–Є –њ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Г «–Ч–≤–µ–Ј–і—Л» –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞–Ї—Г–њ–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О —Б—В–∞–ї—М –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ –Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ–Њ –Љ–Њ—А—О.
–Т—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П – —Б–∞–Љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –≤–µ—А—Д—П—Е. –Х—Б–ї–Є —А–∞–љ—М—И–µ —Б—Г–і–∞ —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Є–Ј –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б–µ–Ї—Ж–Є–є –њ–Њ 30-40 —В–Њ–љ–љ, —В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б – –Є–Ј —Г–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–≥–∞—Б–µ–Ї—Ж–Є–є, —Б–Њ–±–Є—А–∞—П –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—Г–і–љ–Њ –Ј–∞ 1,5 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ—В –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е –љ–∞ —Н—В–Њ. –Ф–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–∞—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≤–µ—А—Д—М, «–Ч–≤–µ–Ј–і–∞», –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤ —Б—В—А–Њ–Є—В—М —Б—Г–і–∞ –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є – —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–∞–і–Є—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ.
–Ґ—А–µ—В—М—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ – –њ–Њ–≥–Њ–і–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Ґ—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–є —Ж–Є–Ї–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –љ–Њ —В.–Ї. —З–∞—Б—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –Є–і–µ—В –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞—Е, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–µ—А—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–≥–Њ–і—Л. –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–≥–Њ–і–Є—З–љ—Л–є —Ж–Є–Ї–ї —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –°–°–°–† —В–∞–Ї–Њ–є —Ж–Є–Ї–ї –±—Л–ї –љ–∞–ї–∞–ґ–µ–љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Є —Б—Г–і–Њ–≤–∞—П —Б—В–∞–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≤–µ—А—Д–Є –њ–Њ –Љ–Њ—А—О.
–І–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ – –Ї–∞–і—А—Л. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ – —Н—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–љ—Л–є –Є –Ј–љ–∞—О—Й–Є–є —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —Б–≤–Њ–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –±—О—А–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –ї—О–±–Њ–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В. –£–≤—Л, –љ–∞—И–Є –≤–µ—А—Д–Є —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –±—А–Є–≥–∞–і –Є–Ј–≤–љ–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–≥–Њ–і–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Ш —Н—В–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤: —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –љ–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–∞, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–і–µ—В –і–Њ–ї–≥–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –±—А–Є–≥–∞–і –њ—А—П–Љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ –≤–µ—А—Д–Є – –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–Є —Е–Њ—В—П—В –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –∞ –≤–µ—А—Д—М —Е–Њ—З–µ—В –Љ–µ–љ—М—И–µ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є—В—М.
- –Ю–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –ї–Є, —З—В–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –≤ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–∞–ґ–љ–Њ–Љ —Б–µ–≥–Љ–µ–љ—В–µ?
- –ѓ –љ–µ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ —А–µ—З—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Є–і—В–Є –Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є. –Ч–∞–і–∞—З–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–∞—П – —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ—Л.
–†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ-–Є–Љ–њ–Њ—А—В–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–є, —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—В—Л –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ 800 –Љ–ї–љ —В–Њ–љ–љ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –≤ –≥–Њ–і. –Ш —Н—В–Њ—В –Њ–±—К–µ–Љ –љ–∞–і–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј—В–Є. –°–µ–є—З–∞—Б, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г—О—В –њ—А–Њ–і–∞–ґ–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б—В—А–∞–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Б—Г–і–∞, —З—В–Њ–±—Л —Е–Њ—В—П –±—Л —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є –µ–є –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ—В–Њ–Ї. –Ш–љ–∞—З–µ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї—А–∞–є–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–є –Њ—В –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ —Г—Б–ї—Г–≥. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Н—В—Г –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–љ–Є–Ј–Є—В—М –Є –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –љ–∞—И–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ–Њ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М —Б–µ–±–µ –Њ—В—З–µ—В, —З—В–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –∞–њ—А–Є–Њ—А–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ф—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б – –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ—А–Њ–ґ–µ –Є —З–µ–Љ —Н—В–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ—З–µ–є —Б–Є–ї—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –і–Њ—А–Њ–ґ–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ.
- –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–∞ «–Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П» –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї–∞ –≤ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–µ, –µ–≥–Њ –і–µ–Ї–∞—А–±–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П? –Т–µ–і—М —В–Њ–њ–ї–Є–≤–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞ –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –≤–Є–і–∞—Е —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–і–Њ—А–Њ–ґ–∞—О—В —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–Њ–≤?
- –Ф–ї—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї–∞ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–∞. –Ю–±—Й–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ –њ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤—Л–±—А–Њ—Б–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Б—В–Њ—П—В—М –њ–µ—А–µ–і–Њ –≤—Б–µ–є –Њ—В—А–∞—Б–ї—М—О –Є –≤—Б–µ–Љ–Є –µ–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Р –≤–Њ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–Є – –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤—Л–±–Њ—А —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –≤—Л–±—А–∞—В—М – –Ј–∞–≤–Є—Б—П—В –Њ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞–љ—В–∞.
–Ю–ґ–Є–і–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Њ–±–Њ–Ј—А–Є–Љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ –і–µ–Ї–∞—А–±–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М—Б—П –Є –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М—Б—П —В—А–µ–Љ—П —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є: —А–µ–≥—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л–Љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –і–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Љ –Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—Г, –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є.
–Т–∞–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П (–Ш–Ь–Ю) –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ –≤—Л–±—А–Њ—Б–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ Well to wake, —В–Њ –µ—Б—В—М —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –Њ–±—К–µ–Љ –≤—Л–±—А–Њ—Б–Њ–≤ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–µ—В –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г (–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–і–љ—Л—Е –≤—Л–±—А–Њ—Б–Њ–≤ – –Я—А–Є–Љ. –†–µ–і.) –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞.